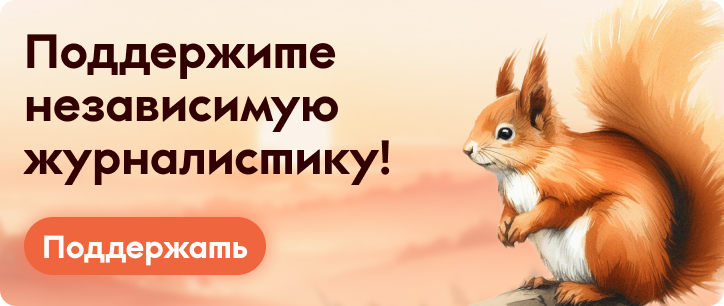Ксения Большакова провела детство в тундре и поселке на полуострове Таймыр. Ее бабушка и дедушка кочевали со своим стадом оленей в тундре. Они до последнего сохраняли традиции долган, коренного народа Таймыра. В 2024 году Ксения выпускает книгу о своей кочевой семье «И мерзлота тает». Она написала ее на родном долганском языке с переводом на русский. Издание «7х7» поговорило с Ксенией о жизни в тундре, учебе в школе-интернате для детей из труднодоступных поселков, конфликтах с русскими и проблемах, из-за которых долганы отказываются от образа жизни предков.
...
Кочевые семьи
Зимой тундра на Таймыре похожа на снежную пустыню с белыми холмами. Посреди нее растут лишь редкие карликовые деревья. Световой день в Арктике короткий - темнеет примерно в 2 часа дня. Когда в тундре начинается пурга, небо сливается с горизонтом, а ветер сбивает с ног. На расстоянии вытянутой руки невозможно разглядеть ладонь.
Зимой тундра похожа на снежную пустыню. Фото из архива Ксении Большаковой
Однажды дед Ксении Большаковой — Алексей Николаевич — ушел в тундру искать потерянное ружье. Началась сильная пурга, и он пропал. Его супруга, бабушка Ксении, Мария Афанасьевна трое суток переживала за мужа. Кочевые мужчины нередко погибали во время пурги.
Женщина и маленькая Ксения пережидали непогоду в балке — передвижном доме, покрытом оленьими шкурами и брезентом. Стены из шкур трепыхались, посуда дребезжала, пламя керосиновой лампы дрожало. Оставаться одним в балке было опасно, и бабушка с внучкой решили пойти к соседям. Мария Афанасьевна привязала к двери дома веревку, намотала ее на руку, чтобы по ней вернуться в балок, если дойти до соседей не получится.
«Одна женщина вышла в пургу вынести пепел и не вернулась. На следующий день ее нашли замерзшей в десяти шагах от дома. Живя в тундре, нужно постоянно быть готовым к вызову, который может бросить природа», — это одно из воспоминаний Ксении, которое она записала в своей книге о детстве на Таймыре “И мерзлота тает”.
Бабушка и дедушка Большаковой сталкивались с вызовами природы на протяжении 40 лет своей кочевой жизни.
Среди участников фото - дед Ксении (мужчина справа) и ручной олень Тугут, о котором девушка писала в книге. Фото из архива Ксении Большаковой
Предки долган переселились на Таймыр с территории современной Якутии в первой половине XVII века. Они занимались оленеводством, ловили рыбу, охотились и искали бивни мамонтов в тундре. Кочевой образ жизни долган связан с оленеводством. Олени съедают и стаптывают ягель на месте стойбища. Чтобы дать земле отдохнуть и восстановиться, нужно переезжать с места на место. Некоторые представители коренного народа предпочли оседлый образ жизни и стали жить в поселках. Они не занимаются оленеводством, но ловят рыбу и охотятся на диких зверей.
В советское время долган раскулачили. Стада оленей стали государственными. Людей объединили в оленеводческие бригады. Дед Ксении работал главным бригадиром в поселке Старый Попигай. Его стадо было самым крупным в Хатангском районе Таймыра. Бабушка Ксении попала в попигайскую тундру по распределению как ветеринар.
— Когда СССР распался, неважно, сколько у твоей семьи было олене́й до коллективизации, — Ксения ставит ударение на вторую “е”, — огромное стадо поделили на всех, и получилось очень малое количество оленей на семью. У людей стоял вопрос, что делать. Либо продолжить кочевать и пытаться нарастить свое стадо, либо пустить его на мясо из-за нужды, потому что ушли совхозы, люди остались без денег и без работы. Третий вариант: люди продавали своих оленей в соседние регионы, якутским оленеводам с Анабарского улуса.
Алексей Большаков остался в тундре, чтобы сохранить стадо. Он кочевал вместе с младшими братьями и их семьями — не кровными родственниками. Долганы жили по три-четыре семьи, потому что так проще следить за оленями. К тому же вместе было безопаснее. Мужчины на сутки уходили в тундру, и женщины оставались одни. Их могла застать пурга, могли напасть дикие звери.
Семьи кочевали недалеко от поселка Попигай, куда ездили за продуктами. Большаковы считаются нижними долганами, потому что живут в низовьях реки Хатанга. Нижние по стечению множества обстоятельств сохраняли язык и оленеводство дольше, чем верхние долганы.
В тундре Большаковы вырастили пять дочерей. Старшая — мама Ксении — уехала учиться в колледж и больше не вернулась в тундру. Получив образование, она осталась жить в поселке Попигай, чтобы присматривать за своими сестрами. Девочек забрали на учебу в поселковую школу.
Когда-то в тундре работали кочевые школы, и учителя занимались с детьми на стойбищах оленеводов.
Детство в тундре
Ксения родилась в 2000 году. Она первая из десяти внуков и внучек Алексея и Марии Большаковых. Ксения ездила в тундру с двух лет и кочевала с родственниками. Никто из ее братьев и сестер не был так привязан к бабушке и дедушке, как она. Дед или дяди тепло одевали девочку и увозили в тундру на оленной упряжке или “Буране” — снегоходе.
Бабушка и дедушка по-русски звали внучку «доча». А по-долгански “огочоонум” — «мой ребеночек» или «котуй» — «девчушка». У имени Ксении нет долганского аналога, как у некоторых других русских имен. Представители коренного народа использовали русские имена в документах, но в жизни называли друг друга по-долгански, часто использовали прозвища.
Бабушка Ксении, Ксения, ее двоюродные сестра и брат. Фото из архива Ксении Большаковой
Близкие говорили Ксении, что в тундре она «росла как олень» — сама по себе. Она училась говорить на долганском и запоминала традиции своего народа: всегда нужно делиться и помогать друг другу, встречать гостя из тундры подарком, кормить духов природы. К духам долганы обращаются при переездах и в другие значимые моменты. Ксения до сих пор кормит духов природы угощениями и говорит специальные слова. Кормит огонь, когда разводит костер на природе, воду и землю, если приезжает на водоем или ест на природе.
С пяти-шести лет девочке поручали несложные дела по дому. В тундре дети — важные помощники, потому что у взрослых всегда много работы: натопить печь, приготовить еду, починить одежду, оленеводческую и охотничью утварь, запрячь или забить оленей. В книге “И мерзлота тает” Ксения рассказывает, как помогала соседу по стойбищу забивать оленя, и описывает, как готовили потроха.
В свободное время девочка играла с ручным оленем, вместе с другими детьми спускалась на оленьей шкуре с сопок, каталась на льду не на коньках, а в обуви из шкур. В одном из рассказов Ксения пишет:
“Соседи запускают генератор. Запах бензина зовет нас на стойбище. Тетя Татыы подключает DVD-проигрыватель к телевизору. “Крепкий чай, дорогой”, — напеваю я, наполняя кружки. Мы переносимся в другую жизнь. И ничего, что фильм мы знаем уже наизусть. За два часа мы успеваем погонять на тачках, залезть на крышу небоскреба, затеряться в море людей и огней. И вот приходится возвращаться из этого невероятного мира домой. Туда, где один только снег”.
“Мы не хотим учиться с этими чурками!”
В семье и поселке Попигай Ксения общалась только на долганском. В детском саду детей начинали учить русскому языку, чтобы в школе они понимали русскоязычную программу. Но в начальных классах в поселке ученики свободно говорили на родном языке.
В 11 лет Ксении, чтобы перейти в пятый класс, пришлось поехать в школу-интернат в райцентре Хатанга. В интернат поступали дети из маленьких районных поселков. Девочка боялась далеко уезжать от родственников. В книге Ксения вспоминает, как перед отъездом думала: «Буду сейчас во все глаза смотреть на стадо, чтобы хорошенько его запомнить. В интернате, когда мне будет грустно, я буду вспоминать наш аргиш (караван оленей)».
Страшно было и потому, что в интернате она могла не найти общий язык с детьми. Ее брат Алеша рассказывал, что в интернате долганский знали дети всего из двух поселков — Попигая и Сындасско.
“Алеша [вернувшись из интерната] стал другим. Мама говорит, он просто становится взрослым. А я боюсь, что он там становится русским. Учителя в интернате ругают его, что неприлично при других разговаривать на долганском. Одноклассники смеются, что по-долгански он не говорит, а рычит как зверь. Я решила, что, когда мы с Лулу [подругой из тундры Лилией] поедем в интернат, будем общаться с ней только по-долгански. Я хочу говорить на своем языке. Таком родном и понятном”, — пишет в одном из рассказов Ксении.
Не забыть родной язык помогло чувство землячества. Ксения приехала в интернат вместе с друзьями из родного поселка и говорила с ними на долганском. Дети из Сындасско тоже держались вместе.
К тому же Ксения общалась с бабушкой и дедушкой. Они перестали кочевать из-за проблем со здоровьем и переехали в Хатангу. Жить в крупном поселке было легче: есть канализация, не нужно топить печь и делать запасы угля на зиму, вместо натопленных кусков льда - вода из крана. Алексей Большаков передал своих оленей младшему брату, потому что у него не было сына-наследника, а дочерям было бы тяжело следить за стадом.
В школе-интернате, где учились дети коренных народов Таймыра, Ксения не сталкивалась с дискриминацией. За разговор на родном языке ее пристыдили один раз в музыкальной школе, куда она ходила с подругой из Попигая. Директор сказала, что “неприлично говорить на своем языке в присутствии русскоязычных людей”.
Но ученики интерната часто дрались с детьми из школы №1 в Хатанге. В ней учились русские и долганы, которые давно жили в селе. В 2014 году интернат сгорел, и детей из поселков перевели в здание первой школы. Ученики из школы №1 занимались в первую смену, из школы-интерната - во вторую. Дети из Хатанги говорили: “Мы не хотим учиться с этими чурками!”
Мама Ксении с двухлетней дочерью в люльке. Фото из архива Ксении Большаковой
Долганы чаще сталкивались с оскорблениями в крупных городах. В книге Ксения вспоминает, как их дразнили: “Ну ты и тундра!”, “Эй долганы, где ваши олени?”, “Закрой дверь, ты что, в тундре родилась?” Один из случаев она описывает так:
«Когда мы гостили у тети [в городе Дудинка Красноярского края, где, по словам Ксении, жили одни русские], она просила нас с мамой говорить на долганском тише. Как будто этого нужно стыдиться. Я сначала даже нарочно стала громче говорить. Но потом один дяденька так на меня посмотрел, так сморщился, что я сразу замолчала».
В Хатанге и крупных городах, где преобладает русское население, долганы могут испытывать комплексы из-за внешности. Тетя Ксении хотела увеличить размер глаз, потому что европеоидная внешность и большие светлые глаза считаются в России красивыми. Одна жительница Попигая сделала такую операцию.
— Стеснение по поводу своей внешности всегда присутствует фоном. С рождения ты видишь по телевизору людей европейской внешности. Везде говорят, что красивый — это с широкими большими глазами, светлыми волосами. Это немного обостряется во время пубертата, когда оскорбляют сверстники с разных школ. У подростков начинаются отношения, и ты видишь, что предпочтение отдается русским девушкам. Конечно, это сильно влияет на психику. Но мало кто решается на операцию на глаза: это страшно, больно и дорого, — говорит Ксения.
В середине девятого класса девушка перевелась в класс школы №1, чтобы лучше подготовиться к экзаменам и поступить в вуз. По ее словам, ученикам из первой школы в Хатанге преподавали на более высоком уровне.
— Даже в Хатанге был стереотип, что коренные — недалекие и неспособные учиться, не очень мозговитые. Детей учат по очень низкой планке. В интернате был распространен детский алкоголизм и ранние половые связи, потому что дети жили без контроля родителей, один воспитатель на 20 человек. Для коренных детей после учебы в интернате уже был готов план: мальчики едут учиться на слесаря или сантехника, а девочки — на бухгалтера или учителя. В основном дети поступали в какие-то колледжи, с их баллами больше некуда было пойти. Они уезжали, бросали там учебу и возвращались в поселок. Большинство моих одноклассников вернулись. Все уже семейные и сидят с детьми, — рассказывает Ксения.
После школы девушка поступила в педагогический университет имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, в Институт народов Севера. В детстве она вместе с мамой ездила в этот город навестить тетю, которая там училась. Санкт-Петербург понравился Ксении. Бабушка как глава семьи поддержала выбор внучки.
В вузе Ксения начала общаться с представителями других коренных малочисленных народов и узнала, что их земляки почти не говорят на родном языке.
— Я довольно амбициозный человек. Думала, что отучусь и приеду на Таймыр, буду поднимать свой народ, делать для него что-то полезное. Когда я приехала в Санкт-Петербург, думала, что у всех народов такое же положение, как у долган. Что в маленьких поселках народ живет со своим языком. В институте я увидела, что все абсолютно не так: у большинства коренных малочисленных народов России уже произошла полная ассимиляция, полная потеря языка. Меня это очень сильно поразило. У меня появился страх, что в скором времени исчезнут мой народ, язык, на котором говорит моя семья.
По мнению Ксении, представители коренных народов часто говорят о важности родного языка и традиционного образа жизни, но мало что делают для их сохранения. Девушка говорит и пишет на долганском, поэтому решила, что не может игнорировать этот дар, что она должна сделать так, чтобы язык продолжил существовать. Она начала изучать долганский на лингвистическом уровне. Но ей не дали получить образование в этой области — в 2022 году ее отчислили после участия в антивоенных акциях.
“Никто не хочет отбиваться от большинства”
После начала войны в Украине Ксения вместе с друзьями выходила на акции протеста. На одном из митингов в Санкт-Петербурге их задержали полицейские. Студентов продержали в отделении более 12 часов. На Ксению составили протокол по статье о нарушении порядка организации или проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ).
По словам девушки, после этого в университете им. А. И. Герцена по указанию ректора создали дисциплинарную комиссию. На нее пригласили студентов, задержанных на акциях. Члены комиссии спрашивали их об отношении к войне и причине, по которой студенты вышли на акции. Ксения была единственной задержанной из Института народов Севера.
— Когда это стало известно педагогическому составу института, началось давление с их стороны. Мне на парах запрещали конспектировать в телефоне. Якобы я собирала и передавала информацию для иностранных агентов. Звонили в неучебное время. Спрашивали, работала ли я с иностранными исследователями, которые занимались долганским языком, зачем я собирала литературу про язык. Я училась на специальности в области родного языка, и это очень странный вопрос. Так продолжалось полтора месяца, - рассказывает Большакова.
Ксения Большакова провела в детство в тундре и, повзрослев, продолжила изучать язык и культуру своего народа — долган. Фото из архива Ксении Большаковой
В конце апреля 2022 года Ксению отчислили под предлогом неуспеваемости. По ее словам, задолженностей по учебе у нее не было. Большакова не стала оспаривать решение института — не видела в этом смысла. Бабушка Ксении сильно переживала из-за отчисления:
— Был тяжелый разговор о будущем. Бабушка довольно строгая женщина, и мне нужно было дать ей понять, что все будет хорошо.
Девушка не рассказала семье, что отчисление может быть связано с ее антивоенной позицией. В начале войны она говорила родственникам об участии в протестных акциях, и большинство близких склонялись к ее позиции. Но спустя время они начали поддерживать власть.
— К моему удивлению, поселок Попигай долго держался, чтобы не попасть под Z-лозунги. Но в итоге это произошло. Какая там система: администрации спускают в поселки коренных малочисленных народов приказ, что нужно сделать фотографию с V или Z в национальной одежде. Пропаганду по телевизору тоже не стоит недооценивать. Это связано еще с тем, что в каждом поселке есть люди, которые ушли воевать, которых призвали. На самом деле, большая часть коренного сообщества провоенные. Даже если смотреть оппозиционную составляющую коренных народов, там в основном люди из народов-титульников. Например, саха, калмыки, буряты. У них большая численность, и среди них найдется больше критически думающих людей, чем в народе [долган] из 8 тыс. человек, где все друг друга знают и никто не хочет отбиваться от большинства. Иначе тебя заклюют, ты станешь человеком нон-грата в поселке, где 300 человек. Конечно, никто не хочет стать отшельником, — говорит Ксения.
По ее мнению, долганы не задавались вопросом, почему в войне участвуют их земляки, если власти говорят о войне русского народа. Люди не задумываются о происходящем “дальше их поселка”. Девушка думает, что земляки не могут мыслить критически, потому что не получили хорошего образования.
После отчисления Ксения поступила в вуз в Москве на айти-менеджмент. Она выбрала более востребованную профессию, где на нее не будут давить из-за национальности и антивоенной позиции. Летом 2022 года Ксения и ее партнер уехали из России из страха, что их административные протоколы могли переквалифицировать в уголовные дела.
За границей Ксения продолжает учиться дистанционно. Ее работа в айти-менеджменте связана с языками: она помогает создавать приложение “Сахалыы” для изучения якутского. Девушка также была ассистентом преподавателя на курсах полевой лингвистики и русского языка в зарубежном вузе, преподавала студентам-лингвистам долганский язык. Еще она работает над созданием корпуса долганского языка — сайта, где будет собрана речь носителей, ее перевод, разбор слов, образцы речи на разных диалектах, современные нарративы. Дома Ксения говорит со своим партнером-лингвистом на долганском и уверена, что передаст язык будущим детям.
Почему растаяла мерзлота
Книга Ксении Большаковой о детстве в тундре «И мерзлота тает» - еще один инструмент для сохранения долганского языка. Девушка стала вторым прозаиком среди представителей своего народа и единственной ныне живущей авторкой, пишущей на долганском языке.
Балок семьи Ксении перевозят на новое стойбище. Фото из архива Ксении Большаковой
О книге Ксения задумалась, еще когда жила в России. Она начала писать ее благодаря поддержке партнера. Большакова хотела рассказать о жизни долган так, чтобы по книге можно было изучить их быт и культуру. Для этого долганка созванивалась с родственниками и уточняла детали из их жизни. В книге девушка написала про кочевые и “поселковские” реалии: что готовили долганы, как выглядит их одежда, как в тундре обустраивали точки для охотников, вытаскивали ушедшие под лед снегоходы, какие запреты соблюдали.
Кроме описаний быта в книге Ксении, важное место занимают рассуждения о проблемах ассимиляции, колонизации, потери языка и образа жизни. По ее словам, в последние 10–15 лет долганы постепенно отказывались от уклада жизни предков в пользу русской культуры и комфорта. К 2024 году на ее родине кочуют две-три семьи. У родственников Ксении осталось одно маленькое стадо оленей. В ее семье уже есть дети, которые говорят только по-русски.
— Наверное, это связано с тем, что оленеводы, которые продолжали сохранять наш образ жизни, все состарились, перестали кочевать и живут в поселках. Дети оленеводческих семей знали, как все устроено. Но уезжали учиться в интернаты. Они видели, что в Хатанге были блага цивилизации, которые не дошли до маленьких поселков, и не хотели возвращаться в тундру. Из-за этого прервалась преемственность. Молодые долганские родители не передают детям долганский язык, чтобы дети лучше говорили на русском. Наша среда чисто на русском, и конечно, идет непреодолимый сдвиг в сторону этого языка. С русским ты можешь работать, продвинуться наверх. А на долганском — поговорить с семьей и друзьями. Мое поколение последнее выросло в долганской среде с долганскими реалиями. И так мы пришли к тому, что ни оленеводства, ни языка у нас уже не остается, — говорит Ксения.
Колонизация и добыча полезных ископаемых — еще одна проблема, которую Ксения затрагивает в книге. Она задается вопросом: почему коренной народ на своей богатой земле живет в нищете и долгах, как долганы стали “меньшинствами, государственными иждивенцами?” Единственный доход оленеводов — это «кочевые», небольшие выплаты от государства на каждого оленя. Долганы продают рыбу и мясо диких оленей. Но власти ввели ограничения на добычу. В 2019 году Минприроды рекомендовало правительству Красноярского края запретить охоту на животное из-за сокращения популяции.
В коренном сообществе не принято обсуждать эти проблемы, считает Ксения. Поначалу Большакова хотела написать деколониальные главы “помягче”, чтобы читатели “не ушли сразу в оборону”, а задумались. Она с волнением ждет выхода книги, потому что не знает, как на ее точку зрения отреагируют земляки. Девушка не давала семье читать деколониальные главы — боялась, что это отразится на их отношениях.
— Представители моего народа в полной степени не осознают, на каком этапе потери языка и потери национальности мы сейчас находимся. Они не склонны задумываться о природных ресурсах. У народа нет полного понимания, что происходит на их землях. Они сами видят последствия, но не обвиняют [никого], не борются. Нет примера, что можно бороться и как-то противостоять. Есть молчаливое согласие на все, — считает Ксения.
В книге долганка пишет: “Человек запустил необратимый механизм. Мы видим его действие на нашей земле, но он уже шагнул далеко за пределы Таймыра. Вечное становится конечным. Тает мерзлота. Растворяются во времени и народах долганы”.
В апреле 2024 Ксения презентовала “И мерзлота тает” на Постоянном форуме коренных народов ООН. Она планирует опубликовать книгу в сети. Но в поселках, где выросла девушка, нет стабильного интернета. Поэтому Большакова напечатает 300 бумажных экземпляров. Семья писательницы передаст книги в библиотеки и школы ее родного Хатангского района.